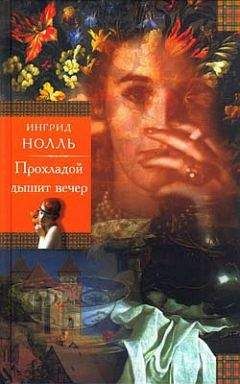— Смерть безбожникам! Подавай нам сына… И опять раздались спокойные слова:
— Если ваши идолы — боги, пусть пошлют одного из среды своей, и тот возьмет сына; а вы к чему хлопочете за них?
Но на этот раз ему даже не дали кончить. Толпа завопила, застонала, несколько секир мелькнуло в воздухе, кто–то подрубил столбы, на которых держались сени, — раздался страшный треск, грохот падающих досок и бревен: сени рухнули, и отец с сыном скрылись под обломками здания.
Крики внезапно стихли. Толпа опомнилась и отхлынула назад.
— Разорили проклятое гнездо, — злорадно проговорил Лют.
Но никто не откликнулся на его слова. Ужас охватил всех. Старый кудесник подошел к развалинам, скрывшим варяга с сыном, и в бессильной злобе пнул ногой бесформенную груду.
— Кончено, — неопределенно проговорил он и вдруг услышал, как сзади него раздались голоса:
— Князь! Князь! Дорогу князю… Да здравствует Владимир Красное Солнышко!
К дому варяга в самом деле подходил Владимир. Не доходя нескольких саженей, он остановился, скрестил руки на груди и долго молча смотрел на развалины.
Лицо князя было взволнованно, губы плотно сжаты, взгляд строг и печален.
Лют хотел ему сказать что–то, но не посмел, и, съежившись, как виноватый пес, под этим загадочным взором, тихо, боком прошел мимо и затерялся в толпе.
Зато Всеслав смело подошел к князю и упал ему в ноги.
— Княже, — воскликнул он со слезами, — Люта это дело, и смерть Дулеба — его же дело… напраслину он возвел на твоего воеводу… я, когда он умирал, с боярином Феодором при нем был… Он просил тебе сказать… и боярин теперь… это Лют ему мстил… и один только Бог Истинный — Тот, Которому служил Феодор… — Он говорил сбивчиво и растерянно, путаясь и захлебываясь в словах.
— Пойдем со мной, — сказал князь. До вечера не расходился народ от дома варяга. Только совсем поздно, когда на небе загорелись первые звезды, у мертвых тел никого не осталось; только в беспамятстве лежали осиротевшая мать и жена, да горько плакала над новой незаменимой утратой Светлана.
Ее горе было так велико, что она не слышала, как кто–то подошел к ней, чья–то рука легла на ее плечо и кто–то ласково назвал ее по имени. Тогда он повторил громче и взволнованнее:
— Светлана… радость моя!
Она подняла голову.
Перед ней стоял Рогдай.
На самом берегу Лыбеди, недалеко от Киева, раскинулось уединенное владение князя Владимира. В вековой роще стоял княжеский терем, и не раз заезжал сюда князь, утомленный охотой, делами или пирами с дружиной. Он любил тишину, которая здесь царила, любил маленького сына Изяслава, который всегда выбегал ему навстречу и ласкался к нему, и только на мать его, свою первую жену Рогнеду, мало обращал внимания. Гордо держала она себя с ним, и он относился к ней холодно… Но недавно страшная гроза разразилась над жизнью князя, чуть было смерть не подстерегла его, и тишина в княжеском тереме стала зловещей, предвещавшей скорую жестокую бурю. Прошло несколько дней, но ни князь, ни княгиня не могли забыть той дикой сцены, какая разыгралась между ними.
Это было ночью. Крепко спал князь на богатой постели, спал и не чуял беды. Рогнеда тоже притворилась спящей. Потом, когда убедилась, что Владимир заснул, встала и, вся дрожа, достала приготовленный отточенный нож…
— Великие боги, видите вы, что я не могу терпеть больше! Отца моего он убил, любимого жениха отнял, рабой своей сделал, а теперь — разлюбил.
Призывала она богов в свидетели своей горькой обиды. А обида была действительно велика: когда–то была Рогнеда невестой брата Владимира Ярополка; отец ее, Рогволод, князь Полоцкий, был сильным и славным князем. Но не устоял он перед дружиной Владимира; взял Владимир землю Полоцкую, дотла сжег, разорил всю область, убил и Рогволода, и двух сыновей его, и силой взял Рогнеду…
Долго не могла она примириться со своей горькой долей, потом любовь князя заставила ее немного смягчиться, но по–прежнему она гордо вела себя с ним, и не видел он от нее любви и ласки. И наконец наскучила она ему. Почти забыл о ней Владимир, поселив ее в далеком селе, на берегу Лыбеди; и тогда только почувствовала Рогнеда, как осиротела она, как много потеряла. К чему только не прибегала: и к заговорам, и к травам целебным, и великим богам молилась, и у Люта–кудесника помощи просила — ничто не помогло вернуть любви князя. Тогда страшное дело задумала она. Однажды ночью, не помня себя, она занесла нож над головой князя, но он проснулся. Рогнеда опомнилась, но было уже поздно.
Ни слова не сказал Владимир. Встал, бледный как смерть; глаза горели. Долго смотрел он на жену, потом, наконец, бросил:
— В брачной одежде жди меня. — И ушел.
И с тех пор ужас полонил ее сердце. Не смела она ничего возражать, ни о чем просить, ждала страшного часа.
И теперь, проведя без сна не одну ночь, она, в нарядной, шитой золотом одежде, сидела на богатом ложе и ждала смерти. Маленький Изяслав курчавой головкой терся о колени матери.
Она гладила рукой эти шелковистые волосы, и гордое сердце ее смягчалось, и слезы катились из глаз: не жизни было ей жаль; жаль было этого милого мальчика, жаль было того, на ком сосредоточена была вся сила ее материнской любви.
— Изяслав, мальчик мой милый… — шептала она, посадивши ребенка на колени и покрывая его голову и лицо жаркими поцелуями.
— Матушка… Плачешь ты? — удивился мальчик, обеими руками стараясь поднять голову матери и заглянуть ей в лицо.
Рогнеда и не скрывала уже, что плачет.
— Сейчас придет отец — гневный, грозный… Он придет, Он… О боги… Но все равно… Когда войдет он, бросься перед ним на колени, обними, проси у него за мать, проси, мальчик мой милый, солнышко мое, проси, ненаглядный… — Она говорила бессвязно, но чуткое сердце ребенка поняло, что какая–то опасность грозит матери, что поссорились между собой отец и мать.
— Матушка!.. — он прижался к ее груди и замер, сам готовый заплакать. И сидели они оба так в ожидании страшного часа.
А в это время княжеская ладья тихо, медленно подплывала к берегу. Гребцы едва работали веслами, зная, что князь не торопится, князь точно старается оттянуть наступающий час.
А князь сидел, задумчивый, мрачный, и смотрел на багровый закат солнца, садившегося за лесом. Смотрел и словно не видел; мысли его были далеко: думал он то о вероломной жене, которая получит теперь заслуженную казнь, то о мученике–варяге, который погиб недавно на его глазах, то о новой, чудесной вере, которую он уже успел немного узнать, то о старом Люте, который так ненавидел эту новую веру. Владимир привык слушать Люта, и теперь судьба Рогнеды была решена тоже не без его совета. «Пореши ее, князь, не оставь в живых!» — нашептывал Лют.
И, хоть старый, любимый воевода княжеский Путята говорил другое, просил князя помиловать виновную, не послушал его Владимир.
Гнев и обида царили в его душе, И по мере того как ладья подплывала к берегу, эти чувства заполняли все больше и больше его душу, разгорались в нем, — и, гневный и мстительный, вступил он на берег.
Прошло несколько минут, и с обнаженным мечом он входил в терем Рогнеды.
Она сидела в своем дорогом уборе, бледная и трепещущая, не смея поднять на него умоляющих глаз.
— Готова? — раздался грозный голос Владимира. Но в это время кто–то крепко обхватил его колени руками… Он вздрогнул и увидел, что маленький Изяслав обнимает его.
— Отец… отец… ты не один… прости матушку… — И почему–то лицо сына напомнило ему другое бледное детское личико, смотревшее недавно на толпу с такой мукой… И все перемешалось в голове, меч выпал из рук.
— О боги!.. Разве я знал! — он схватился одной рукой за голову, другой отстранил сына и, не сказав ни слова жене, вышел из терема.
Через несколько дней бояре и Путята «порешили», потому что князь просил их совета: «Государь, прости виновную для сего младенца и дай им в удел бывшую область ее отца».
Князь так и сделал.
И в ту ночь, когда так решил он, тихо и светло было у него на душе, словно коснулась душа чего–то великого, хорошего. Хотелось ему в эту ночь всех любить, всех обнять, и еще хотелось ближе узнать и понять христианского Бога.
А старый Лют скрежетал зубами, потому что уходил князь из–под его власти.
И еще сильнее стало его беспокойство, еще сильнее разгорелась его злоба, когда через несколько дней узнал он, что греческий жрец, как называл он отца Адриана, приходил к князю и о чем–то долго–долго беседовали они.
Не один греческий священник приходил к князю беседовать о вере. Узнали о его желании переменить веру другие народы, и каждый из них пытался склонить русского князя к своей вере, чтобы иметь в нем сильного союзника.
![Ал. Платонова - Над Днепровским курганами[повесть из жизни Киевской Руси]](https://cdn.my-library.info/books/200533/200533.jpg)